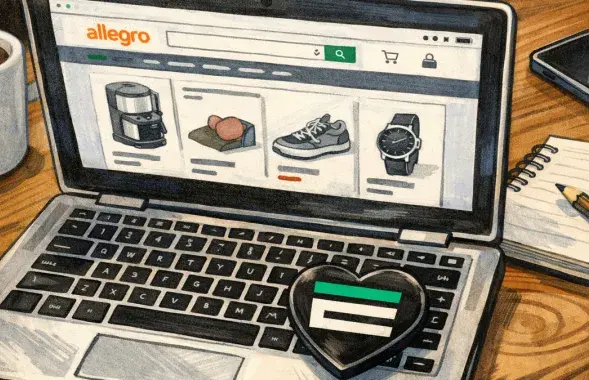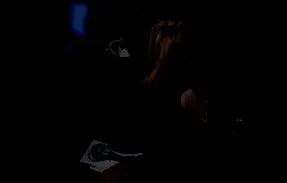"Пушкин — это маяк империи": Жадан — о войне, культуре и Беларуси

Сэргий Жадан / Euroradio
Сэргий Жадан — украинский поэт, писатель, музыкант, с прошлого года — военный. Он лауреат многих престижных конкурсов. А в 2022 году комитет литературоведческих наук Польской академии наук выдвинул его на Нобелевскую премию в области литературы.
Произведения Жадана переведены на множество языков, в том числе, по-белорусски выходили книги “Дэпэш мод”, “Anarchy in the UKR”, Украінскія авіялініі”, “Варашылаўград”, “Інтэрнат” и избранные стихи в серии “Паэты планеты”.
Еврорадио встретилось с Сэргием Жаданом в Харькове, чтобы поговорить о роли культуры во время войны, о сопротивлении российской культуре, о связях с белорусами, о службе в армии и о самом Харькове.
Это большой разговор с выдающимся украинцем. Сокращенную версию смотрите на видео ниже.
— Как вы изменились за время войны? В вашей последней книге "Арабески" как раз прослеживается лейтмотив связанный с изменениями.
— Какие-то вещи бесспорно изменились: ощущение пространства, времени. Это какие-то такие вещи, чисто защитные. Если ты понимаешь, что глупо планировать вперед, даже на месяц.
То есть ты планируешь по инерции, ведь это каким-то образом психологически успокаивает, но ты точно понимаешь, что завтра всё может измениться: может что-то прилететь. И, соответственно, к каким-то вещам начинаешь относиться гораздо проще, какие-то вещи перестают быть важными вообще.
Это бытовые вещи, например, ощущение денег, ощущение карьеры или другие — они теряют значение.
А с другой стороны, гораздо важнее становится привязанность к людям, которым доверяешь, к близким, к тем, кто на одной волне с тобой. Держишься за своих. Это держит психологически, это помогает вынести.
Думаю, я изменился. Стало больше эмпатии, наверное. Желание помогать, желание поддержать. Ведь потребности в этом стала гораздо больше. У всех большие проблемы, у всех большие несчастья. И многим просто нужна помощь.
— Если говорить о музыке и литературе, какая у них роль на войне?
— Это сложный вопрос. С одной стороны понятно, что культура не может выиграть войну. Культура не может остановить войну. Культура, в значительной степени, даже предотвратить войну не способна. Но культура может фиксировать, может быть свидетелем, репортажистом, летописцем. И это очень важная функция.
С другой стороны, культура остается важным полем эмоционального равновесия. Я сейчас вижу, как люди приходят на концерты, на мероприятия — и насколько это для них важно.

И ты в это влипаешь, ведь ты на этом вырос. Я ребёнок советского времени, я родился в советской системе, и, соответственно, этот мусор сидит во мне, и выбросить его очень трудно. Но мне 50 лет, и когда сегодня 17-летние слушают российскую музыку — я, честно говоря, не совсем это понимаю.
Мне кажется, что лучшее, что здесь можно делать — это предлагать украинскую альтернативу. В Украине создаётся большое количество качественного культурного продукта.
Просто очень часто срабатывают эти старые механизмы, довоенные схемы культурного распространения — и именно их надо ломать, чтобы люди больше знали о том, что создаётся здесь, у нас.
— Какую музыку вы сейчас слушаете?
Я не слушаю русскую музыку. И дело здесь совсем не в конъюнктуре, не в том, что нельзя слушать, и не в желании подчеркнуть свой патриотизм. Просто психологически не могу.
Тех музыкантов, на которых я вырос, которых лично знаю с российской рок-сцены — сегодня слушать невозможно. Мне это очень тяжело психологически, так как я понимаю, что за всем этим стоит большая пустота, и за всем этим стоит большая фальшь. Всё то, что они пели пятьдесят лет — о свободе, о протесте, об антисистемности — на самом деле оказалось большой ложью.
Фактически вся эта культура вырастила монстра, и в значительной степени сегодня продолжает его обслуживать. Поэтому я всё это слушать сегодня не могу.
Читать российскую литературу тоже стало очень трудно. Недавно поймал себя на мысли, что за эти три года, если и читал что-то из российской литературы, то разве что Бориса Слуцкого.

Это такой отец российских шестидесятников. Он в значительной степени повлиял на всё поколение 60-х, один из крупнейших российских поэтов. Он из Харькова. Родился и вырос здесь. У него много текстов про Харьков. Он участвовал во Второй мировой войне, был в Красной армии и много писал о войне. Поэтому он очень сложный человек, противоречивый.
Он, например, выступал против Пастернака. Жёстко его критиковал. И поэтому он — очень советский поэт. Не просоветский, не пропагандист. Напротив, часто довольно контраверсийный. Но все равно его трудно отделить от советской системы.
Я помню, что несколько раз его перечитывал. А вот что-то другое, даже то, что любил в современной или классической российской литературе — просто не могу читать. Ведь сразу появляются ассоциации с происходящим на линии фронта и по ту сторону её.
Вполне допускаю, что когда война закончится, пройдёт какое-то время, если мы все выживем — может, я снова смогу читать условного Маяковского или Мандельштама, или ещё кого-то. А может, и нет.
"Пушкинизация", как великая колонизаторская политика”
— Каким образом можно добиться, чтобы российская культура ушла с пьедестала? Что делать, чтобы уменьшить её влияние?
— Она сама никуда не исчезнет, так как россияне прекрасно понимают силу культурного присутствия. Они всегда использовали Россию как политический и идеологический маркер. Они умеют с этим работать и делают это очень эффективно.
Вот мы с вами находимся на улице, которая сейчас называется улица Сковороды. Исторически она называлась немецкой. К 100-летию Пушкина по всей Российской империи проходила огромная кампания переименования улиц, площадей и других топонимов — им давали имя Пушкина.
Это была такая "пушкинизация", за которой стояла великая колонизаторская политика. Эта улица стала Пушкинской, здесь стоял памятник Пушкину. И, соответственно, с одной стороны может показаться, что речь идет о поэзии, литературе, культуре.

Но на самом деле — нет. Понятно, что речь идёт об имперском присутствии, об их маркёре. Это как маяк: он стоит, ты на него реагируешь, он определяет маршрут, освещает этот ландшафт. Поэтому россияне будут и дальше упорно продвигать свои культурные нарративы, так как это мягкая пропаганда, мягкая агитация.
Одно дело говорить про ”Орешник" — это пугает, вызывает отвращение, вызывает протест. А вот Пушкин — нет. Поэтому это очень хитрая, мягкая сила, которая остается влиятельной. И понятно, что россияне будут продолжать этим пользоваться.
Так какие варианты? Блокировка. Ведь иначе они будут дальше считать нас зоной своего влияния, продолжать утверждать, что имеют право на политическое, военное, экономическое и культурное присутствие здесь — ведь, мол, мы сами этого хотим.
Они нас колонизируют, а потом используют сам факт колонизации как аргумент против нас. Поэтому этому надо безоговорочно противостоять.
— Что должно произойти, чтобы, например, Сэргий Жадан заколлабился с российским культурным деятелем?
— Думаю, это сейчас невозможно. Россия с нами воюет, какая может быть коллаба?
— А в будущем?
— Вообще об этом не думаю. Могу только догадываться, что многое изменится.
Вспомните окончание Второй мировой войны, когда в Польше и Германии на какой-то момент появился диалог, или между Германией и Францией. Очевидно, что даже величайшие враги со временем забывают о тяжелейших обидах, но на это нужно время. И главное — нужны изменения мировоззрения, изменения в понимании определенных вещей.
Я хотел бы представить, но не могу, ситуацию, в которой президент России после войны приезжает в Бучу и становится на колени. Зная психологию россиян, я не могу этого себе представить. Это даже не фантастика. Это невозможно.
Поэтому я скорее могу допустить противоположное — что даже после этой войны, даже если будут предоставлены все доказательства военных преступлений, россияне будут упорно это игнорировать. И свою оккупационную политику, и эту войну они будут преподносить как свой большой успех, как праведное дело.

Собственно, это вызывает большое уважение — что их позиция осталась неизменной. Большинство из них сейчас находятся за пределами Беларуси, если не сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому в этом смысле для меня ничего не изменилось.
Я просто помню и знаю белорусское культурное сообщество уже тридцать лет. Я впервые приехал в Беларусь в 1994 году — это был фестиваль в Новополоцке, его организовывало Таварыства Вольных Літаратараў, Алесь Аркуш и другие. Для нас это было новое окружение — мы впервые увидели новую белорусскую литературу, протестную, авангардную, чрезвычайно интересную.
И с тех пор я с ними поддерживаю связь. Сюда я приглашал многих белорусских писателей и музыкантов — помню, мы сюда и Лявона Вольского привозили, и Андрея Хадановича, и Марысю Мартысевич, и многих других авторов.
И сам регулярно приезжал к вам. Я знаю эту среду и видел, что они делали, как они выступали — и у меня язык никогда не повернётся высказывать им претензии за Лукашенко.
— Исполняете ли вы ещё песню "Я рок-музыкант"?
— Да, мы играем. Мы её играли, когда последний раз были в Польше, мы выступали вместе с Лявоном Вольским — он пришёл к нам на концерт. Мы пели её и будем петь. Мы очень её любим.
Нам нравится (ну как нравится — вызывает определенное недоумение), что многие украинцы считают эту песню нашей, украинской. А когда мы говорим: "Послушайте, так это же Вольский, это "Народная Республика Мроя", — для многих это открытие.
Хотя белорусскую литературу у нас читали и до последних событий, когда большинство писателей выехало, когда началась полномасштабка. У нас были довольно хорошие и конструктивные связи с современной белорусской литературой.
Белорусы постоянно приезжали к нам, мы тоже ездили в Минск, настолько, насколько это было возможно. Появлялись переводы, совместные проекты. Это был такой нормальный процесс взаимоуважения.
"Мы делаем всё, чтобы о бригаде знали, и чтобы в самой бригаде всё функционировало"
— Расскажите о своей службе в "Хартии". Чем вы занимаетесь?
— Я мобилизовался в мае прошлого года. Мы с друзьями — нас было трое музыкантов из группы “Жадан и собаки” — прошли в БЗВП [программу военной подготовки], прошли учебный курс и начали служить в батальоне сил поддержки. Мы в основном занимались укреплением и оснащением позиций.
Я два месяца там отслужил и перешёл в секцию гражданско-военного сотрудничества. Это значит, что я в значительной степени занимаюсь коммуникацией. Мы работаем над взаимодействием и внутри бригады, и между бригадой и обществом.
Если говорить коротко — мы делаем всё, чтобы о бригаде знали, и чтобы в самой бригаде всё функционировало. Это наша основная работа.
Сейчас у нас был “Хартиатур” — мы ездили по городам Украины, встречались с местной властью, с сообществами, налаживали связи, договаривались о сотрудничестве и помощи, общались с большим количеством молодежи, детей, кадетов в силовых вузах — как принадлежащих МВД, так и вооруженным силам Украины.
Вот такая работа. На наши мероприятия пришло, думаю, где-то 20 000 человек. Это такая информационно-коммуникационная работа.
— Как вы все успеваете и при этом не выгораете?
— Я встречаюсь с людьми, которые держат, которые, собственно, подтягивают, и, глядя на них, мне стыдно становится. Мне кажется, что это очень важно — иметь прямые связи с людьми и чувствовать их энергию.

Если ты сидишь один дома, уткнёшься в телефон, читаешь в твиттере, то скорее всего ты очень быстро устанешь от всего. И охватывает ещё какая-то депрессия.
— Есть ли что-то, что вы увидели на войне, что мы бы не могли описать, что бы не попало в книгу?
— Очень много всего, конечно. Собственно, поэтому я сейчас об этом и не буду говорить.
Многие вещи могут навредить. Многие вещи, которые слишком щекотливого характера, касающиеся, скажем, каких-то историй отдельных людей. Очевидно, может, о чём-то можно будет написать.
Возможно, о чём-то и позже не смогу написать. Это такая самоцензура, безусловно. Реальность войны, она разная.
И это, опять же, если отвечать на вопрос, что изменилось, что изменилось в письме, что изменилось в понимании литературы, безусловно, появилось гораздо больше табуированных тем.
Это не в плане страха... это, безусловно, ограничения, но связанные с эмпатией, с вопросом тактичности.
О каких-то вещах не стоит говорить. Хотя это такие вещи, которые бы, если о них написать, возможно, вызвали бы какую-то волну хайпа.
”Харьков — город строительных кранов, которые не работают"
— Как бы вы описали сейчас Харьков?
— Он остается прифронтовым городом, городом-крепостью, защищающимся городом, городом, который стал центром этого региона.
Город очень травмирован, сильно сломан, город пустых университетов, пустых театров, город пустых концертных залов, город строительных кранов, которые не работают.

Вот вы видите, в Харькове очень большое количество строительных кранов. Город активно развивался, очень быстро, интенсивно строился до войны.
Все эти краны сейчас уже третий, четвёртый год стоят без работы. Вот город, который защищается, город, который почти ежедневно обстреливается, город, который изменился социально, так как из этого города выехало большое количество молодых людей, выехали все иностранцы, у нас было множество иностранцев.
Но город, который сильно меняется, я думаю, что это будет город, который после войны будет совсем другим: и политически, и в языковом плане, и культурно, и экономически. Я думаю, что всё-таки реальность этой войны будет невозможно игнорировать, она так или иначе будет определять большие изменения.
— Что первое вы делаете, когда возвращаетесь в Харьков?
— Нет чего-то такого. У меня всегда много работы, поэтому я просто еду по подразделениям, еду по каким-то расположениям нашей бригады, наблюдаю за городом, пытаюсь понять, что изменилось, что не изменилось.
Вот вчера были сильные обстрелы, и я понимаю, что сегодня, проезжая по городу, мне, видимо, придётся увидеть недавно расстрелянный дом. Это, конечно, такой себе опыт, но это наша реальность.